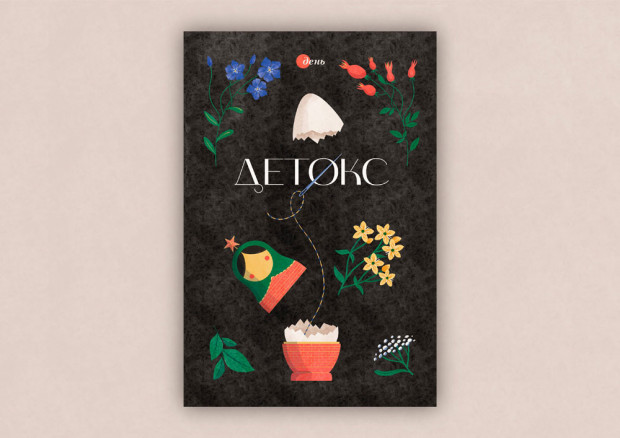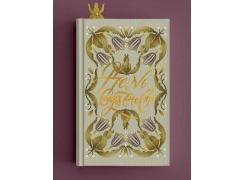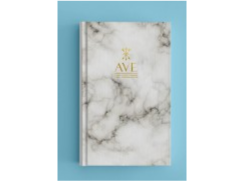Дмитрий ДОНЦОВ: В города!

От ведущего страницы «История и Я»
Откровенно говоря, мы предлагаем нашим читателям давнюю статью Дмитрия Донцова совсем не потому, что склонны идеализировать или «иконизировать» (как сегодня это модно в определенных кругах) этого крайне внутренне противоречивого и во многом спорного мыслителя. Читатель «Дня» — а мы верим в его интеллигентность и мудрость — сам отличит зерна от плевел, то есть почти неприкрытый антисемитизм Д. Донцова, совсем не случайное уважительное упоминание им марша фашистов на Рим и т.п. от важной и актуальной проблемы: как разрешить противоречие между утверждением украинской национальной идеи и русифицируемыми городами. Здесь есть что обсудить, никоим образом не считая Д. Донцова носителем истины. Приглашаем читателей к дискуссии. Стиль и взгляды автора сохранены. Итак, перед нами — идеолог «интегрального национализма».
В № 33-34 «Дня» за 25 февраля была опубликована, как всегда, обстоятельная и концептуальная статья Сергея Грабовского «Кое-что об истоках нашей идентичности (Украинизация городов Украины: история и современность)», где автор объяснял роль больших городов в формировании модерных наций. При этом публицист часто ссылался на мнения великих классиков и современников: М. Грушевского, В. Липинского, Н. Шлемкевича, Н. Хвылевого, О. Субтельного, И. Дзюбы. Однако в истории украинской политической и историософской мысли есть одна работа, где автор, Дмитрий Донцов, с не меньшей остротой и широтой проблематики осмысливал тему города в Украине. Предлагаю для развертывания дискуссии и анализа интересной и актуальной проблемы статью «В города!», впервые опубликованную в календаре-альманахе «Червона калина» (Львов) в 1929 г. Сегодня эта статья подготовлена к печати во 2-м томе 10-томного собрания «Избранных произведений» Д. Донцова.
«Паралитиком назвал наш народ Франко, и есть в тех словах не только поэтическое высказывание, но и утверждение огромного веса факта нашего общественного строения: мы паралитики, потому что парализованы некоторые члены нашего тела; потому что нет у нас органа, исполняющего одну из важнейших функций национальной жизни, — нет у нас своего города.
Страшно отомстил тот дефект нам во время последних наших освободительных движений, когда проявилась потребность внезапной мобилизации национальной стихии, когда центры этой стихии — города — были в руках чужестранцев.
Вспомним из истории, когда еще наши города были наши, при Хмельницком или Мазепе, — как нелегко было чужестранцу продвигаться в наш край; как приходилось брать один городок за другим, как в Батурине или и в других городах, ставило население сопротивление целым армиям, задерживая их продвижение на наши территории; как, словно сеткой той, укрывали наши города нашу землю, а продраться сквозь нее не так-то легко было.
И как же иначе было теперь, в последние годы! Правда, и теперь занимали мы столицы наши, но овладели ими не автохтонные городские украинские элементы, только окрестные крестьяне, что в австрийской или русской униформе случайно оказались тогда в них или возле них. А уже овладение Киевом в 1918, в декабре, и в 1919 — это был просто «марш на Киев» крестьян, входивших во враждебную и чуждую им среду. Сие было что-то подобное более поздним «маршу на Рим» фашистов или «маршу на Букарешт» заранистов. Только, опять таки, из-за враждебности нам нашего города те в своих столицах удержались, мы же их покинули. Там дрались с враждебными партиями своей нации, мы — с чужестранцами.
А хотя бы и в «мирные» времена! Когда города наши имели украинский вид? Только во время мирной инвазии окрестного сельского элемента, как это бывает, например, во время «сокольских» или «просвитянских» съездов. Города оставались чужестранными островками среди нашего моря, но островками, что над тем морем господствовали.
И то, собственно, интересно, что препятствием организации национальной стихии были чужие города не только во время народного взрыва, не только во время внезапной мобилизации. И во время медленной, степенной организации народа — экономической, политической или культурной — город играл первостепенную роль: когда свое — эту организацию чрезвычайно облегчало, когда чужое — ее утруждало или совсем тормозило. И то одинаково: тогда ли, когда происходит сия организация нации (как теперь) в рамах государства чужого или когда имеем собственное государство (как было в 1917 или во время Гетманщины в 1918, когда, не говоря уже о жидах, все те «Протофисы» и «Суозифы» в наших городах ужасно вредили организации украинской стихии в одно сознательное целое). Откуда эта сила города?
Оттуда, что все великие культуры всегда были культурами города. Мировая история творилась городами. Село всегда было безвольным объектом, которым управляла городская культура, городская экономика, городская политика. Эта беда еще не так страшна, когда город и село однонациональны; потому что хотя и набрасывает тогда город селу свою высшую культуру, но культуру не чужую национально селу; потому что хотя и подчиняет его своему проводу экономическому и политическому, но все же действует в этом случае город (pars pro toto) как репрезентант интересов целой территории, целой нации, заботится (потому что должен заботиться) о ее интересах. Потому что даже при барщине должен был пан немного считаться со своими крепостными, с которых жил; потому что даже полководец не так разоряет собственную территорию, как чужеземную.
Совершенно иначе, когда город чуженациональный: тогда его верховенство становится верховенством чужой метрополии; тогда господство над селом становится господством над целой чужой нацией, тогда культурное верховенство служит денационализации, а политический и экономический провод — вырождается в экономическую и политическую колониальную эксплуатацию.
Возьмем политику! Село может хоть какую революцию сделать, землю разделить, большую собственность себе забрать, что то ему поможет, когда не его будет город, который издает законы и регулирует всю политическую и экономическую жизнь; когда чужой город облагает налогами ту землю; присваивает (как в Советах) весь труд рук крестьянских и весь его урожай; когда своими законами может забить отрасль промысла, с которого живет село, либо той или иной системой железных дорог или тарифов привести село к обнищанию, или регуляцией цен — к голоду или эмиграции; когда чужому городу все равно, будет ли развиваться чуждое ему село, выголодает или вылюднеет, уступая место колонистам из метрополии...
В городах происходили политические перевороты, на место монархий приходили республики, одну элиту сменяла другая, но село жило своей жизнью, едва на это реагируя. Правда, и в государствах однонациональных очень часто новая городская элита не спрашивала село о том, как должна им править. Но все же старалась в собственных интересах — о благосостоянии крестьянского большинства заботиться, как, напр., заботились о нем якобинцы, хоть немного было среди них представителей села. А когда не заботились, приходила на смену старой новая элита, которая и удовлетворяла потребности большинства народа, в том числе и села. Вместе с тем не должна была этого делать господствующая элита в странах, где она была прежде всего экспонентом метрополии, как это было в России, где царский город так же эксплуатировал украинское село, как и город большевицкий.
В государствах, где город и село той же нации, каждое правительство окончательно сдано на милость большинства, следовательно, и своего села (не важно, что является оно только предметом его правления). Но в государствах, где город и село принадлежат к разным народам, правительство, хотя бы и краевое, опирается не на большинство в чужом крае, только на метрополию, которую слушает; следовательно, может совсем пренебрегать потребностями чуженационального села.
В новейшие времена политические организации масс проявляются в форме партий. Центром партии, где сидит ее штаб, — опять является город. Здесь печатаются партийные журналы, здесь имеют занятия партийные шефы — люди вольного звания (адвокаты, врачи, инженеры, журналисты). Имеет нация свой город, то имеет сразу и целые кадры своей политической элиты, которая соединяет политически массы (идейно и организационно), — будь то в партийной жизни, будь то при выборах и т.д. Если город в чужих руках, то политическая организация масс замирает или, еще хуже, осуществляется чужим штабом под чужим флагом. Так организовал когда-то наших крестьян чужой русский город под своим (не нашим) русским социалистическим флагом. А когда в Галичине еще и до сих пор некоторые села находятся под идейным и организационным влиянием москвофильства, то только благодаря культурным и экономико-политическим москвофильским заведениям в городах, прежде всего во Львове.
Возьмем экономику. Село производит продукты и сырье для города, город те продукты сельского труда потребляет и перерабатывает на своих фабриках, на своих машинах. А в том царстве машин главным трудом является труд организатора и администратора — не производителя. Не ручная сила, только мозг организатора держит всю ту машинерию вместе. Он составляет план труда, цены рук, сырья и др. Он господствует над сельским производителем. И опять таки, когда такое случается в однонациональном государстве, это убирает форму обычной конкуренции разных слоев той же общности. Когда же город и село разнонациональны, дело меняется: тогда целую нацию спихивает чужая буржуазия к роли одного (более низкого) социального класса, тогда калечится национальный организм, тогда на том организме вырастает экспонент другого народа, который все богатства, собранные с села, обращает на потребности чужой общности: на чужие церкви, на чужую колонизацию, на Палестину, чужие образовательные общества, чужие политические партии, чужое господство, которое имеет крестьянскую нацию как объект колониальной эксплуатации. Огромные богатства, которые собирают в своих руках Форды и другие городские долларовые потентаты в Америке, превращаются в университеты, больницы, опытные институты и научные экспедиции, предназначенные для добра американского народа. Но богатства, которые собирают с нашего села денежные бароны наших городов, идут на «Эрек-Исраэль», «Агро-Джойнт», на жидовскую колонизацию на Украине, на «Школу людову» или на Красную армию, опору метрополии на Украине.
То же, что я сказал о городе как ячейке торгово-промышленного капитала, надо в еще большей степени сказать о городе как ячейке капитала финансового, который является опорой современной партийности и газетного дела, промысла и банковости, которая сгребает и использует в своих (чужих национально) целях все сбережения села.
Так же, как город является ячейкой организационного центра политической и хозяйственной жизни, является он очагом организационного центра всей духовной жизни народа определенной территории. В городе появляются новые научные теории, новые религии, новые политические идеи, новые художественные течения. Город является законодателем мод в нарядах, в литературе, в политике. Город производит общественное мнение с помощью своей прессы. Сия пресса приписывает селу и провинции, что они должны хотеть, думать и как должны поступать. Город организует политическое мнение страны, из которого родится политическое действие. В городе разбросаны тысячи школ, университетов, куда идет молодежь из села, где ей в голову вбивают определенную идеологию: свою, когда город свой, чужую — когда он чужой. Своими лапками-рельсами соединяет город самые дальние закоулки провинции с собой и разрывает связи между ближайшими городками, не давая им сговориться и соединиться. Кто имеет город, тому легко случить вокруг себя и своей идеи целую страну. Вместе с тем стране, лишенной такой городской ячейки (или в которой он чужой), необычайно тяжело произвести одну мысль и волю, организоваться идейно под одним флагом. Общественность такой провинции становится моральным номадом, что путешествует от одной мысли к другой, смотря по тому, к какому городскому центру его привяжут.
Даже в чисто автономных (не самостоятельных) движениях некоторых провинций (напр., «регионализм» Франции, который не надо путать с нашим антинациональным регионализмом) сии движения развиваются только там, где они сосредоточиваются вокруг какого-то города: региональные противоположности почти все являются противоположностями городам. В провинциях со слабой муниципальной жизнью, где город слабоват, чтобы быть центром жизни провинции, или в сей провинции чужой, там автономизм имеет характер движения чисто академического, ретроспективного, как, напр., наш провансальский автономизм перед первой революцией на Великой Украине, который объединял своих сторонников не так в активных стремлениях современности, как в воспоминаниях и в сожалениях о прошлом. По той же причине и из-за того, что его духовной ячейкой является Львов, смогло совершить большое продвижение украинское национальное движение в Галичине. По той же причине, из-за нехватки своей городской столицы, не могло, мимо помощи России, сконденсироваться украинское движение Холмщины в активное сепаратистское движение. И опять, стремление разбить украинскую нацию на племена — гуцулов, лемков, полищуков и др., составные части чужого народа, могло родиться только там, где слаб был украинский город, чтобы прессой, школой, политикой несомненно связать собой в одно целое те «племена» под украинским флагом; если другие примеры, то надо сказать, что своеобразный московский регионализм (как фронда Петербургу) мог появиться только потому, что имел готовую городскую ячейку в старой столице Москве. Без этой ячейки немыслимы ни противопетровская оппозиция, ни движение славянофилов, ни, наконец, тот поворот к Азии, что как вершок сего московского регионализма утвердился при большевиках. Большевики знали, что делали, перенося столицу Союза в Москву. Сознавали свои цели и тогда, когда перенесли столицу Украины в Харьков. Деградируя старый Киев, тысячей нитей и воспоминаний связанный с целым краем, они обезглавливали украинский сепаратизм, лишали его организующего центра, которым может быть только свой город и которым не является Харьков.
Тормозящая роль чужого города чувствуется всегда: будь народ под чужим государством или даже имея свое, как это почувствовали мы в 1917 и 1918 гг., а чувствуют поляки теперь; где их городское (жидовское в большинстве) население останавливает формирование одной государственнической идеологии, перечеркивая не одну внутренне- или внешнеполитическую ориентацию, утруждая процесс самоорганизации (государственной уже) нации в действительно единый духовно организм. Напротив, пример той же Холмщины, полонизация которой пошла полным ходом именно после разделения Польши, свидетельствует о большой национально организующей роли города даже там, где этой роли противодействует (чужое) государство.
Наконец, как уже сказано, сильно дает о себе знать эта роль города во время напрасной организации национального элемента; в час, когда ему приходится биться за преимущество с другим. Так было, как я уже упоминал, с нами в 1917—20 гг., так было, когда сдержали русский поход на Запад не украинское крестьянское море, только польские городские островки в Галичине. Нехватка тех островков на Правобережье сдержала польский поход на Восток. А когда, напр., русский вопрос, вопреки ликвидации российской государственности на Волыни, все же там еще существуют, то лишь потому, что россияне успели перед тем крепко окопаться в тех городских островках, где теперь фрондируют и против украинского крестьянского моря и против польского государства.
Думать, что именно факт обретения собственного государства покончит с этой бедой (с чуженациональными городами), нельзя. Вероятно, государство имеет в руках огромные национализаторские средства, но одних их маловато. Потому что здесь играют роль особые законы ассимиляции, а именно высшие классы ассимилируются только среди социально равного себе большинства; только там, где они находят в середине чужой нации социально им подобный господствующий слой. Так, напр., польские города вплоть до ХІV ст. были немецкими национально, пока польский шляхтич и холоп жилы натуральным хозяйством. Лишь когда образовалось польское мещанство, ассимилировались немцы с социально равным себе польским большинством в городах. Это является причиной ассимиляции жидовской буржуазии в странах типичной городской культуры Запада и жидовского сепаратизма на Востоке, где не хватало третьего сословия и где жиды были в большинстве в своем слое. Следовательно, само государство еще не придаст городу национальный характер. Нужно, чтобы и народная сила, которая добудет в борьбе себе государство, действовала во всех направлениях, подчиняла себе не только правящий аппарат, но и торговлю, промысел, финансы, вольные профессии — город! Необходима до сих пор нам неизвестная сила разрастания.
Город играет огромную роль в процессе творения нации, в процессе организации менее или более аморфной народной массы в сознательную нацию. Он организует сию массу экономически, политически и духовно в одну целость, одушевленную общей волей и общими идеалами. Он, свой город, не позволяет угнездиться в живом теле народа инородным занозам, которые уничтожают всяческие попытки организовать народ селюков в полночленный народ со всеми органами и функциями.
Либо в более длительные периоды организации нации под чужой державой, либо в своей собственной, либо в более короткие моменты борьбы за собственную государственность, везде и всегда решающую роль играет город. Без него прерываются связи, что соединяют разные ячейки народа в единство, задерживается нормальное обращение крови и мыслей, дозревшие к формулированию лозунги — никнут и замирают, замененные навязанными чужестранцами; сэкономленные богатства распыляются или нагромождаются чужими, напрасно пропадают наиболее героические стремления политической организации. Народ, с точки зрения экономической и политической, стал народом-парием, с точки зрения духовной — народом-номадом без постоянных идейных привязанностей, стремлений и приверженностей, вечно колеблющейся стаей плебеев. Из субъекта становится объектом истории, когда все усилия экономического, политического и духовного подъема народа погибают напрасно из-за нехватки организующей ячейки, которой может быть только город. Такой не организованный своим городом народ становится в мирные времена народом «крестьян», а в момент бунта — народом «бандитов».
Народ без своего города становится народом-провинциалом, без понимания больших проблем мировой жизни, ее движущих сил, своей в ней роли, легковерный, доверчивый к врагу, готовый за блага сегодняшнего дня, за миску чечевицы продать право своего первородства, глупо-хитрый, туподумный, с узким горизонтом своей родной колокольни, не способный ни на длительные жертвы, ни на упрямство до конца.
Только в городе, в бурном потоке его жизни, куются новые идеи и программы. Только в городе работает мысль со скоростью его машин, с отвагой его политических и экономических владетелей, только в городе закаляется дух в вечном желании покорить себе провинцию и весь мир. Только в городе возможность экономического и культурного объединения народа в нацию может стать фактом жизни.
Поэтому, когда наука истории хоть чему-то способна научить нас, поставим себе задачу и клич: «В города!».
Чтобы перестал быть парализованным национальный организм.
Чтобы не были мы распыленными номадами, которыми погоняют другие.
Чтобы не отдавали мы наработки наших рук в чужое распоряжение.
Чтобы не позволяли чужому городу диктовать себе, что мы должны хотеть и делать и как думать!
Чтобы не были орудиями для метрополии, а сами для себя творили собственный центр.
Чтобы ничто не стало нам на пути, когда придет время полной организации нашей национальной жизни, время, когда мы из деревенщины превратимся в нацию.
«В города!» — вот тот клич, который мы должны добавить ко всем прежним нашим лозунгам, который должен разливаться по всей — как долга и широка — Украине.
И не как красивая мечта, только как практическая задача дня».
Ведущий страницы «История и «Я» — Игорь СЮНДЮКОВ. Телефон: 303-96-13.
Адрес электронной почты (e-mail): [email protected]
Выпуск газеты №:
№46, (2012)Section
История и Я