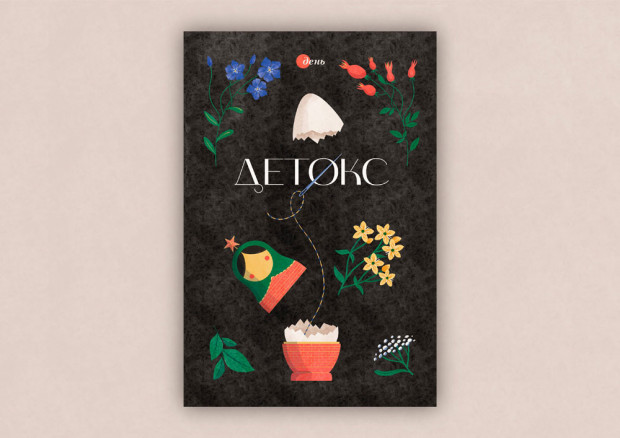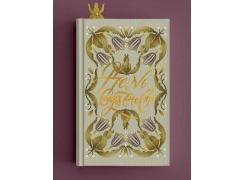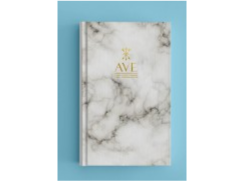А кто хочет войну знать...
Contact Line — лабиринт вопросов, мнений и решенийContact Line — интерактивный, мультимедийный социальный спектакль, где живое действо совмещается с элементами мапинга, видеопроекциями в стеклянном лабиринте», игрался в Украинском доме на Европейской площади столицы Украины во время коронавирусной эпидемии. Время, место действия в режиссуре называют предложенными обстоятельствами.
В данном случае они сами по себе возвышают художественное событие. Что касается темы спектакля — речь идет об этой затяжной войне на востоке нашей Родины. Китайцы поучают: «Из 36 способов ведения войны наилучший — побег!» Когда война идет в твоей Стране, в твоем доме — бежать некуда.
Боль от того, что происходит в Луганской и Донецкой областях, эмоции такие разрывные на сердце, что разумом этого не постичь. Вообще голова и сердце так часто не могут прийти к согласию, что каждый человек по жизни страдает от их споров. Собственно, идея у всех одна — достичь мира. Уверен, обе стороны конфликта чистосердечно этого хотят, конечно, кроме тех, кому война — мать родна, а отец — бизнес прибыльный.
Другое дело, каким способом — наступлением — сопротивлением до последней капли крови — достижением компромиссов — просто отречением от своих людей и территорий.
Этот лабиринт вопросов, мнений и решений зримо воссоздается в декоративном и пластичном решениях спектакля.
Над лестницей в зал первого уровня Украинского дома зрители видят кабинку лифта, потом на ее стеклянной поверхности появляется изображение заполненных книжных полочек, и героиня спектакля (актриса Ю. Чугай) рассказывает о защите докторской диссертации. Этот факт из биографии украинского и британского режиссера Ольги Данилюк, которая получила докторскую степень в высшем учебном заведении Лондона Central Royal Schoolof Speechand Drama, защитив диссертацию на тему: «Virtually true».
«Intermedial strategies of staging war conflict», ассоциирует лифт с необходимостью возвышаться в осознаниях войны как таковой и такой, какова она в Украине, провоцирует ожидание интеллектуальной и эмоциональной высоты разговора о ней.
Зрители поднимаются по лестнице в фойе первого уровня, над которым кругами вплоть до стеклянной крыши сходятся ярусы, что, по замыслу группы архитекторов под руководством лауреата Государственной премии СССР Вадима Гопкало, призваны иллюстрировать идею Ленина о развитии цивилизации по спирали. Интересно, что 5-метровую из белого мрамора статую Ильича в это фойе спустили с геликоптера до установления крыши, а уже выносили частями через тесноватые двери.
В центре зала — стеклянный саркофаг, который разделяет зрителей и в то же время располагает лицом к лицу. На его поверхности возникают кадры из документальных съемок, телевизионных передач украинских и российских каналов. В нем есть молодые ребята и девушки, для которых война стала ошарашивающим жизненным обстоятельством.
«Геля: Мы находимся в школе. Звучит сирена, и мы с подругой выходим на парадный вход. Потом парадный вход закрывается. Нам приходится выходить через черный вход. Возле черного входа размещается футбольное поле. В этот момент там идет урок физкультуры.
Учителя просят, чтобы мы прикрылись кофтами и не смотрели на футбольное поле. Но интересно ведь. Я вижу несколько мертвых тел на футбольном поле. У одного из мальчиков нет головы. Они лежат на тех же позициях, как и в футболе — защитники, нападающие. Я поднимаю кофту и больше не смотрю в их сторону.
Никита: Это день перед днем рождения моего брата. Это зима. Моему брату будет девять лет. Родители готовят еду на праздник. Но утром нас будит не будильник, а звуки войны. Мы живем в пятиэтажном доме, на самом верхнем этаже. Мы бежим в дом к бабушке, потому что у нее есть подвал. С собой мы берем только документы. Мы думаем, что там только переночуем. День рождения брата мы отмечаем тушенкой. В подвале мы остаемся на месяц».
Режиссер Ольга Данилюк декларирует: «авангардный подход заключается в определенной отстраненности творца, что позволяет системам и материалу создавать непредвиденные нарративы. Практически это заключается в системе взаимодействия — комбинации звука, голоса, языка и образа. Такое мультидисциплинарное композиционное мышление, созданное в результате скульптурного звукового и хореографического отбора, дает возможность генерировать новые истории через физическое движение». Исследуя, как военный конфликт подается через медиа, она объездила всю прифронтовую зону. И там натолкнулась на действующий театральный кружок. В спектакле Contact Line приемом «театр в театре» воспроизводится процесс создания документальной драмы любительским коллективом по текстам, собранным ею вместе с Д. Левицким.
Максимальная сдержанность актерского стиля игры, лаконичность дизайнерского решения, многозначительность сценографии Федора Александровича как-то неожиданно, подсознательно формулируют мысль о закапсулированности этой войны. Она, известная нам с экранов, для большинства за ними и остается. А дальше возникает странное ощущение какой-то ее неполноценности, поврежденности, искаженности. В конечном итоге постепенно приходит понимание: это — невоспеваемая война, война, которая не достойна воспевания. Вспоминаются героические военные песни, неотъемлемые от украинского застолья:
«Зберись, могутня
Україно,
Козацьке плем’я, стань
на змаг,
Піди, де сонце, де
вершини.
До перемоги йде твій
шлях!»
«А козацька слава
кров’ю полита
Січена шаблями,
рублена мечами,
Ще й сльозами
вмита...»
«Наливаймо, браття,
кришталеві чари,
Щоб шаблі не брали,
Щоб кулі минали
Голівоньки наші!
Гей-гей!»
Кинолента внутреннего виденья выхватывает кадры, от которых перехватывает горло: из фильма «Киборги» А. Сеитаблаева (сценарий Н. Ворожбит), документальной ленты «Добровольцы Божьей чоты» Л. Кантера и И. Ясния, вспоминаются романы «Иловайск» Е. Положия, «Интернат» С. Жадана, который точно передал общее доминирующее ощущение боли.
«Наше місто було з каменю та заліза.
У кожного з нас тепер у руці дорожня
валіза.
У кожній валізі попіл, зібраний
під прицілом.
Тепер навіть у наших снах пахне горілим».
И подумалось, а вдруг отсутствие пафоса, аккомпанирующего боевым действиям, дает надежду на более скорое истощение этой ужасной войны. Очень простыми режиссерскими средствами без эффектных акцентов, попыток вызвать особенные эмоциональные состояния, современными техническими средствами, подчеркивающими особенности нынешнего ведения войны на территории разума и сердца, постановщики спектакля достигают близости постижения нашей войны и нашего мира.
Но дороже всего, с чем идет зритель, что в нем пробивается сквозь потрясение пережитого со спектаклем, это размышления о том, как будем жить по ее окончании. Эрих Мария Ремарк в «Трех товарищах» свидетельствует: «Когда мы вернулись с войны молодыми, лишенными веры во что-нибудь, мы не знали куда деться, где найти работу, за что пойти с любимой в бар. Мы двинулись в поход против лжи, эгоизма, жадности! А что из этого получилось? А все перевернулось, забылось, нивелировалось. Время больших мечтаний миновало. Я по-другому представлял себе жизнь...»
Чтобы реальная жизнь не исказила надежды, нужен контакт не через экранное стекло, не через стены болтовни и побасенок, а от сердца к сердцу.
А кто хочет войну знать,
Пусть идет с нами воевать,
но не убийственным оружием, а миротворческой силой любви, понимания, проявлением красоты человеческой друг к другу.
В жизненном лабиринте, из которого должны возмужалыми выйти молодые украинцы, не хватает исторического уголка, в котором бы мы узнали, что Донецк — давнее поселение запорожцев, которое называлось Александровка, а Луганск — казацкое поселение Каменный Брод, где, конечно же, разговаривали на украинском языке.
Технологические декорации убеждают в мобильности спектакля, который интересно было бы показывать по всей Украине. А после спектакля — зрителям вместе с поводырями-актерами выходить из этого лабиринта уверенными в победе над Минотавром.
Выпуск газеты №:
№199, (2020)Section
Культура