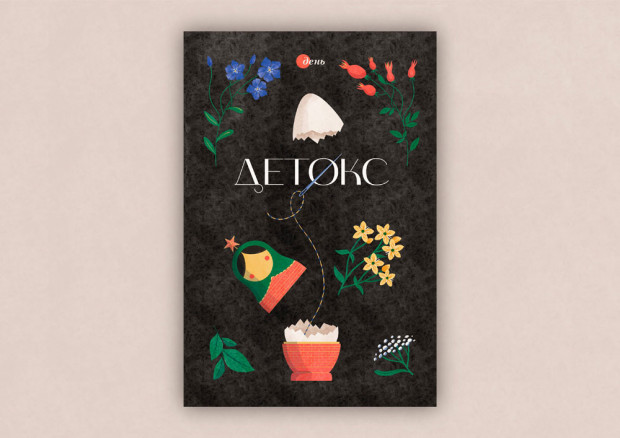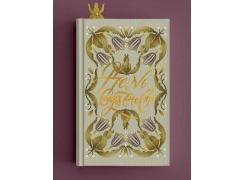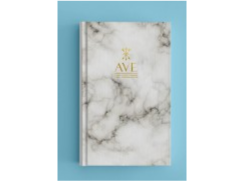История Беларуси: величие, драмы, коллизии - 2
Что мы знаем о прошлом северной соседки Украины?
Продолжение. Начало читайте в «Дне» № 66-67
Путь, пройденный на протяжении веков белорусским народом, трагический, жестокий, тяжелый, но в то же время это путь человеческого достоинства, путь сопротивления деспотизму и насилию над личностью — может быть прекрасным аргументом в пользу слов Нобелевского лауреата, выдающегося польского поэта Чеслава Милоша: «Память — это наша сила. Тот, кто жив, получает мандат от тех, кто замолчал навсегда». Если бы та пассивная часть белорусского общества (впрочем, равно как и украинского), которая предпочитает держаться в стороне от социальных потрясений и бурь, — если бы она знала, сколько жизней, крови, жертв лучших людей страны было за много веков истории сознательно отдано теми белорусами, которые сознательно, самоотверженно боролись за «европейский вектор» развития родной земли (пользуясь современными терминами), то, очевидно, сама духовная атмосфера у наших белорусских друзей была бы совсем иной; а следовательно, возникли бы предпосылки и для политических изменений (эти предпосылки, бесспорно, еще надлежит реализовать)... Знают ли многие белорусы, с какой грустью, гневом и болью писал Янка Купала, классик национальной литературы, совесть народа, о том, что миллионы людей даже не помнят своего национального имени, а на вопрос: «Кто вы такие, какого рода-племени, каких корней?» отвечали: «Та мы тутэйшия» (здешние. — И.С.). И это было всего 100 лет тому назад (впрочем, положив руку на сердце, следует признать, что и в Украине того времени подобный тип «национального сознания» в ту же эпоху никоим образом не был диковинкой — со всеми последствиями для национально-освободительных соревнований в 1917—1921 гг.).
Но вернемся к временам, о которых имеем все основания говорить о настоящем расцвете державотворческого потенциала белорусов, творческого труда этого народа в сфере политики, культуры, социальной жизни. Речь идет об уже упоминавшемся Великом княжестве Литовском (ВКЛ) — триедином восточноевропейском мощном сверхэтническом государстве украинцев, белорусов и литовцев (ХІV—ХVI вв.), которая на протяжении трех веков доминировала на территории Восточной Европы. Очевидно, малопродуктивным делом являются дискуссии относительно того, какой этнос господствовал во ВКЛ, как исторически корректно назвать официальный язык Великого княжества: староукраинский, старобелорусский или же как-то иначе. Трудно отрицать одно: белорусы принадлежали к тем этносам, благодаря которым было образовано, потом мощно укреплено и стабилизировано ВКЛ, так сказать, основные «несущие конструкции» этого большого государства средневековья. Наследие ВКЛ в области культуры, социальной жизни, правовых нововведений является общим приобретением и белорусов, и украинцев, и литовцев.
А между тем нам на самом деле почти ничего не известно об этом исключительно интересном государстве (кроме, разве что, известного высказывания Великих князей: «Мы старину не трогаем, а новизну не вводим»). Вот, например, правовая система ВКЛ. Оказывается, что в ранний период становления и развития ВКЛ (ХІІІ—ХІV вв.) князья Полоцкой, Витебской и Смоленской земель (последняя тогда ощутимо тяготела к белорусскому «сегменту» ВКЛ) подчинялась давним демократическим принципам политического уклада этих территорий. Да, право избрания тех или иных князей, которые признавали власть Великого князя Литовского, и даже сам факт признания этой верховной власти (до 1323 г. правительство ВКЛ имело в качестве своей резиденции Новогрудок на белорусской Гродненщине, родине Мицкевича, кстати, в ХІІІ ст. этот город не раз находился под контролем Королевства Русского, а с 1323 г. — Вильно) зависел от согласия вече каждой отдельной земли, то есть достаточно мощным был тогда древнерусский традиционный вечевой уклад — так же, как и в Киеве, Новгороде, Пскове. Например, еще в середине ХІІІ в. в Полоцке утвердился (не без влияния военной силы) литовский князь Мингайло, но уже его внук Борис властвовал в том же Полоцке потому и только потому, что «держался древности». Исторические источники сообщают об этом так: «Пануючи йому в Полоцку, був ласков на подданных своих и дал им, подданным своим, вольности и вече мати и в звон звонити и потому ся родити как у Великом Новгороде и Пскове». При смене больших князей в Вильно каждая земля отдельно признавала над собой власть большого князя. Так, господство Витовта в Смоленске в 1404 г. (повторим, тогда преимущественно белорусском городе) утвердилось только потому, что здесь Великий князь имел свою партию, и более того, приказал жителям города «лготу многу чинити». В 1440 г. литовские власти утвердили в Вильно Великого князя Казимира, однако каждая земля отдельно признавала его не без переговоров и уступок со стороны Казимира. В ранний период истории ВКЛ (до ХV в.) местное вечевое собрание, каждое отдельно, решало вопросы войны и мира — и далеко не всегда согласно тому, как считал Великий князь. Это же собрание само определяло уплату экстраординарных (чрезвычайных) налогов на военные потребности; вопрос местного законодательства тоже принадлежал к компетенции вече (например, торговое, гражданское право — напомним, что в Беларуси, как и в Украине, действовала система Магдебургского права и местного самоуправления, которое включало страну в средневековое европейское правовое пространство).
Деятельность местного вече в сфере правосудия длилась до середины ХVІ в., когда вечевые собрания фактически превратились в местные сеймы шляхты (типологически похожий процесс происходил и в Украине). Древнейшие обычаи в отношениях власти и населения сохранялись настолько длительное время, что даже Великие князья Казимир и Александр (ХV в.), выполнив государственные дела в Литве, перебирались в подвластные им белорусские княжества, жили здесь определенное время (столько, сколько, по их мнению, было нужно) и руководили этими областями совместно с местными вечевыми собраниями. Земли руководствовались на основании «уставных грамот», то есть местных конституционных актов. Эти грамоты закрепляли политический, социальный и правовой порядок, сложившийся на этих землях на протяжении предыдущих веков. Нормы уголовного и гражданского права, согласно древнейшим обычаям, теперь закреплялись законом. Важно, что Великий князь лично гарантировал областям, подвластным ему, личную безопасность жителей (то есть неприкосновенность лица — никто не мог быть лишен воли или казнен без суда и следствия; свободу женщин, которые остались без опекунов, от принудительных браков; свободное право передвижения в соседние княжества и за границы государства; не привлечение к ответственности целой семьи за преступление одного из членов этой семьи; сохранение личных привилегий и «чести шляхетской»).
В сфере имущественных прав были подтверждены права на владение собственностью, которой, по крайней мере теоретически, нельзя было лишить (практически речь шла в основном о шляхетстве, но также и о горожанах) без решения суда, права на завещание и на наследство. Наконец, эти «уставные грамоты» (а еще в большей степени три знаменитых Литовских устава 1529, 1566 и 1588 гг. — фактически конституции государства) обеспечивали древнее процессуальное право: торговый суд, личность и имущество граждан ограждались от притеснений со стороны местных администраций в обмен на определенные обязательства населения относительно уплаты налогов и выполнения «государственных работ». В этих условиях жизнь того или иного белорусского княжества приобретала черты отделенного от ВКЛ государства на принципах древнерусского права (заметим, что здесь многое существенно изменилось после заключения Люблинской унии в 1569 г. и вхождение белорусских и украинских земель в состав Речи Посполитой»). Но если мы примем во внимание время действия «уставных грамот» и «Литовских уставов» (ХV—ХVІ в.), то ответ на вопрос: были ли эти правовые нормы прогрессивными (для своей эпохи!) и «европейскими» — является очевидным.
Вообще чем больше (глубже, плотнее) знакомишься со средневековой историей Беларуси, тем чаще приходится использовать высказывание «нам почти ничего неизвестно о...», или «практически всегда оставался в тени факт...». Вот лишь некоторые примеры. Знают ли все, что: 1) западноевропейские путешественники называли тогдашнюю Беларусь «страной замков». Тогда крепкие и красивые замки были возведены в нескольких городах страны: Троках, Медниках, Витебске, Лиде, Новогрудке, Креве. 2) Оршанская битва Константина Острожского, его победа 8 сентября 1514 г. (кстати, поистине знаменательно, что как раз именем этого выдающегося украинско-белорусского правителя только что назван совместный польско-украинско-литовский батальон!) была одной из наибольших европейских «баталий» ХVІ в. — все захваченные Московией территории были освобождены; в результате этой победы начал разваливаться тайный союз московского большого князя Василия ІІІ, отца Ивана Грозного, и ряда европейских государств, направленный против ВКЛ. 3) Великий белорусский и всеславянский просветитель и печатник Франциск Скорина еще в августе 1517 г. издал в Праге первую книгу на старобелорусском языке, в 1522 г. он же учредил типографию в Вильно; 4) в 1523 г. поэт Николай Гусовский печатает «Песню о зубре» — первом художественном произведении средневековой белорусской литературы; 5) в 1562 г. просветитель и печатник Симон Будный начал издавать книги в небольшом городке Несвиже; 6) в 1563 г. в Бресте издана широко известная в Восточной Европе так называемая «Радзивиловская Библия» (она заслуживает отдельного разговора); 7) в 1580 г. Василий Тяпинский издал Евангелие на белорусском языке. Все это — лишь единичные факты из истории белорусской культуры той эпохи.
Как бы мы не оценивали роль белорусской (и украинской) шляхетской элиты ХVІ — ХVІІ в. для развития общества (сегодня авторитетные исследователи, в частности, профессор Наталия Яковенко отрицают факт религиозной «измены» этой элиты), но непросто отрицать тот факт, что конфессиональный гнет правящего слоя Речи Посполитой, которая подписала объединительную унию с ВКЛ, с целью обеспечения реального доминирования католицизма (как и социальный гнет!) ощутимо усилился на протяжении первой половины ХVІІ ст. Это и определило в достаточно большой степени ход дальнейших событий. Добавим только (об этом, возможно, не все знают), что пламя Украинской революции в 1648—1676 гг. охватило и Беларусь: во время польско-московской войны 1654—1667 гг. (а полковник Жданович, посланец Хмельницкого, стремился внедрить на тех землях казацкий строй, что вызывало безумную ярость царя Алексея Михайловича) погибла, по некоторым данным, половина белорусов (!). После этой войны восточные белорусские земли вошли в состав Московии; западные же были аннексированы Екатериной ІІ в результате двух разделов Польши 1772 и 1795 гг.
Можно анализировать тот факт, что в Беларуси практически не было казачества (в украинском понимании). Или сравнивать державотворческую возможность украинской и белорусской шляхты, ее влияние на историю. Лучше, однако, вчитаемся в бессмертные стихи Янки Купалы (Ивана Луцевича):
«А хто там iдзе, а хто там iдзе
У агромнiстай такой грамадзе?
— Беларусы.
А што яны нясуць на худых плячах,
На руках ў крывi, на нагах у лапцях?
— Сваю крыўду.
А чаго ж, чаго захацелась iм,
Пагарджаным век, iм, сляпым, глухiм?
— Людзьмi звацца.»
Выпуск газеты №:
№70-71, (2017)Section
История и Я